Опубликовано: 15 декабря 2024 года
Под занавес года Семьи Небольшой драматический театр выпускает премьеру о взаимоотношениях внутри одной семьи, в которой все хотят причинить друг другу добро, а больше всех – заглавный персонаж, господин Арган, тот самый мнимый больной. О том, какие ключики и как подбирали к Мольеру, «Культуре Петербурга» рассказал режиссер спектакля Кирилл Сёмин.

- Выбор Мольера был случайным или закономерным? Или так звезды сошлись?
- Когда у нас в театре возникла пауза в постановках (Лев Борисович Эренбург пробовал разный материал, и все как-то не складывалось), актерам в какой-то момент стало нечего делать. Я увидел слоняющегося Сережу Уманова, который что-то выпиливал лобзиком – а у меня всегда материал рождается от актера – посмотрел на него и понял, что ему нужно сыграть эту роль и что нам надо взять именно эту пьесу. У меня не было какого-то портфеля литературы или задумок, что я хочу непременно поставить Мольера, Шекспира или Чехова. Просто я вдруг очень ясно увидел, что эта роль идеально ложится на именно этого актера с присущей ему психофизикой и природой чувств. Удачно, что в этот момент нашлись и другие незанятые артисты, которые также очень гармонично распределились по ролям.

- В тебе, как в режиссере, больше рационального или спонтанного?
- Во мне есть и то, и то. У меня всегда вполне конкретная рациональная задача: нужно занять артистов. С моей точки зрения, репертуарная политика в театре должна строиться таким образом, чтобы все они были при деле. Потому что, если актер не работает, то, как говорил Владислав Пази, начинается разброд и шатание, сплетни и другие неприятные явления. У нас все путем. Но это не отменяет того, что материал должен чувственно в меня попадать, разжигать, провоцировать. К пьесе нельзя подходить рационально и сухо, она должна внутри отзываться.

- В театре Эренбурга все пробуют всё, ты на роли выбираешь актеров сам. Как у тебя строится репетиционный процесс, ты приходишь с готовым решением? Какое место в команде занимает, например, этюд?
- Распределение ролей не отменяет этюда, мы просто купируем этот этап. На мой взгляд, когда несколько человек пробуют одну роль, это и психологически дискомфортно, и в конечном итоге работает против результата. Создавая спектакль, мы должны привести рисунок роли к какому-то общему знаменателю, но это невозможно сделать с разными актерами, это просто получаются разные спектакли. Поэтому я не приветствую дубли и иду от артиста, именно того, кого я вижу в том или ином образе. А дальше мы работаем абсолютно в традиции нашей мастерской: этюдом, ситуативно, многократно и подробно разбирая сцены. Мы сочиняем вместе в каноническом нашем стиле НДТ.

- Для канонического стиля НДТ характерны такие вещи, как натурализм, телесность, кровь, драки… «Мнимый больной» лишен всего этого. Как ты обостряешь предлагаемые обстоятельства?
- Удивительным образом, у выбранного драматурга как раз все это есть, и сам бог велел бы «вытащить кишки». Но именно потому, что это есть в пьесе, нам парадоксально захотелось не показывать горшки и кровопускания, а решить историю от обратного. У нас обострение идет по линии чувств, конфликтов между людьми, между близкими родными людьми.
- Расскажи же, под каким углом Вы посмотрели на историю господина Аргана, ипохондрика и домашнего тирана, каким принято его изображать?
- Когда я прочитал пьесу, первое, что заинтересовало меня: почему он так себя ведет? Зачем ему нужно прикидываться больным, или он не прикидывается? Мы попытались раскопать зерно этой игры в больном и проследить психологическую подоплеку конфликта в пьесе. Мольер предполагает определенное жанровое существование в своих пьесах: где форма преобладает над содержанием, а персонажи в традициях площадного театра близки к маскам. Нам же хотелось сделать историю максимально психологической, показав, почему люди ведут себя так, а не иначе.

- Сейчас, когда в моде повальное увлечение психологией, и в частности, разборы всевозможных родительских комплексов и установок, это весьма актуальные вопросы.
- Именно так. В этом есть драма, даже трагедия: человек не может себя по-другому вести, в его субъективном ощущении он может делать только то, что лично он сам считает верным, и это загоняет его еще глубже в яму. У Мольера он явно прикидывается, в этом есть глупость и сатира, автор насмехается над ним, над ипохондрией, как явлением. Но нам здесь видится история глубже. Как в любой хорошей драматургии, тут нет хороших и плохих, есть колоссальный эгоизм. Здесь все мучают друг друга своей любовью.

- У зрителя существует такая устойчивая конструкция: «в пьесе такого не было», или «в книге совсем по-другому», или «это не Чехов/Шекспир/Мольер». Как ты относишься к таким высказываниям?
- Мне кажется, что сейчас таких высказываний становится все меньше. Сегодня ставится много различных спектаклей, которые, отходя от канонических текстов, развивают пьесу в том ключе, который актуален. Если она смыслово попадает в художников и обжигает, мы имеем право сказать «по мотивам» и менять текст так, как нам это кажется правильным. Я сравниваю этот процесс с реставрацией предметов старины. Старая вещь с новыми частями внутри будет работать. Вот это, я считаю, ценнее.

- В спектакле много ярких красок (что тоже не совсем типично для НДТ), расскажи об этом.
- Мы с художницей Аленой Ромашкиной хотели, чтобы в декорации сочеталась театральность с какими-то очень бытовыми вещами. Костюмы – это в большей степени ее видение, она придумала такие яркие, модельные, где-то вычурные образы. Я в глубине души сомневался, насколько эта вычурность подходит под наши психологические изыскания… но посмотрим.

- Твое имя в спектаклях театра уже прочно связано с музыкальной составляющей. И в этой премьере вы снова удивляете живой музыкой, на этот раз - пианино, флейта, аккордеон…
- У автора пьеса начинается с балетного выхода во славу Людовика, вернувшегося с войны. Интермедия с пастушками не имеет отношения к истории, и сейчас ее было бы никуда не привязать, как и шутки в сторону самого Мольера. Это развлекательные моменты для игры с залом, то, что сегодня мы называем интерактивом. Мы никак не использовали этот текст, но это дало нам повод внести в историю музыкальные отступления и живой звук. В этом нам очень помог молодой музыкант и композитор Виктор Кузнецов, который не только сделал оригинальные аранжировки, осуществил запись фонограмм, но и, по сути, выступил музыкальным руководителем для нашего маленького женского оркестра. В котором Татьяна Рябоконь играет на пианино, Вера Тран – на флейте, Нина Малышева – на аккордеоне, а Анна Шельпякова и Илья Тиунов поют.
Мария Долматова.
Спектакль «Мнимый больной» покажут в НДТ 14, 15 декабря, 29 и 30 января.
Фото — Игорь Лобачев. Правообладатель – пресс-служба НДТ.
Обложка: Кирилл Сёмин (НДТ): «У нас обострение идет по линии чувств».
Материал подготовлен редакцией портала «Культура Петербурга». Цитирование или копирование возможно только со ссылкой на первоисточник: spbcult.ru

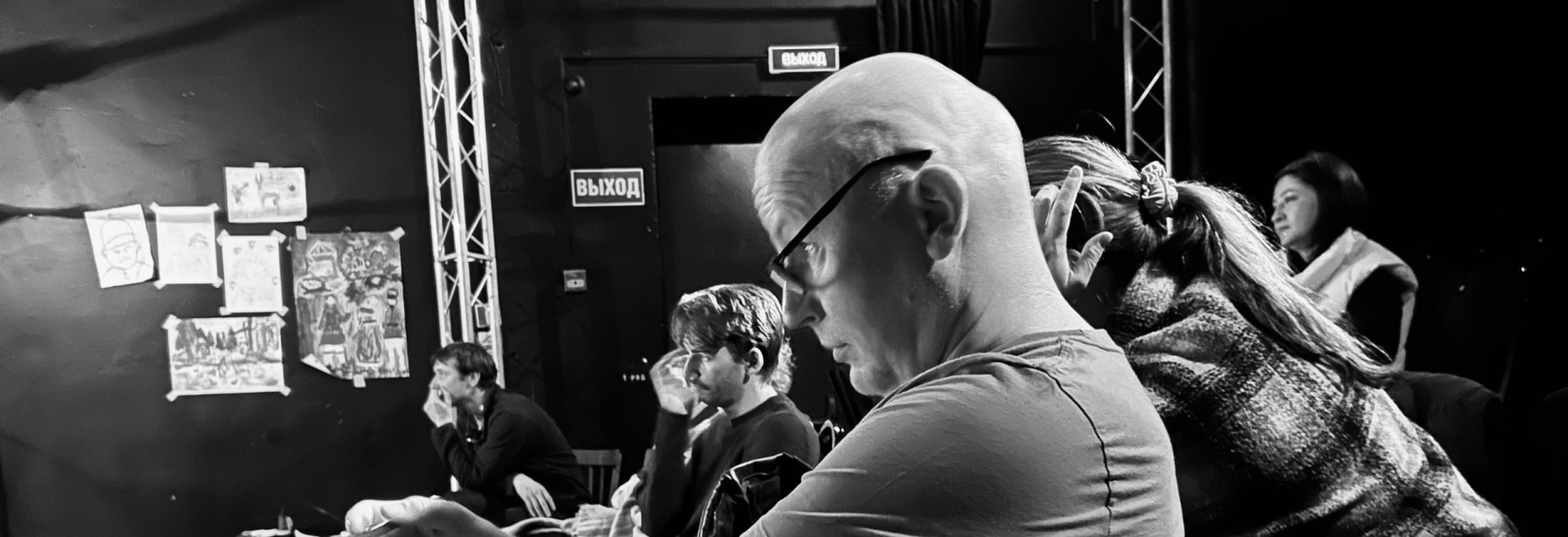
Ваш комментарий
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии
Авторизоваться