Опубликовано: 26 мая 2021 года
Общество стремительно меняется, и в нем все большее значение приобретают социальные и инклюзивные взаимоотношения.
Открытый лекторий «Культура 2.0» — дискуссионный проект Санкт-Петербургского международного культурного форума — не остался в стороне от обсуждения вопросов инклюзии, поскольку без поддержки учреждений культуры невозможно сделать культурную среду максимально доступной для посетителей с особенными потребностями.
Форум запланирован на осень, но его спикеры уже сейчас проводят онлайн-дискуссии и организовывают трансляции в рамках Открытого лектория «Культура 2.0». Одна из последних — дискуссия «Инклюзивные проекты в учреждениях культуры» — состоялась в мае 2021 года.
В обсуждении приняли участие:
- Ярослав Алешин, руководитель отдела программ городской интеграции Фонда V-A-C;
- Мария Щекочихина, менеджер отдела инклюзивных программ музея «Гараж»;
- Альбина Джумаева, ведущий специалист отдела междисциплинарных проектов Пушкинского музея.
Спикеры обсудили инклюзию в современных культурных учреждениях, запись трансляции можно посмотреть на сайте. Следующие онлайн-дискуссии «Культуры 2.0» пройдут 16-17 июня 2021 г.
Участники встречи нашли время ответить на вопросы портала «Культура Петербурга».
Что лично вас привело к работе с инклюзией?
Мария Щекочихина: Меня привлекла возможность создания социокультурных проектов, отвечающих моему личному убеждению в том, что каждый имеет право на равные возможности.
Ярослав Алешин: Первоначально меня заинтересовал один полузабытый сюжет из истории Музея Вадима Сидура, который я возглавлял в 2015—2019 годах. Дело в том, что еще в конце 80-х, когда создавался музей, в него начали приезжать воспитанники Загорского детского дома-интерната для слепоглухих людей. Уже тогда, задолго до «моды» второй половины 2010-х, экспозиция музея была полностью открыта для тактильного осмотра, а между его дирекцией и выпускниками Интерната (в частности, нашим знаменитым слепоглухим психологом и педагогом Александром Суворовым) начали завязываться постоянные культурные связи. Отталкиваясь от этой истории в 2016 году совместно с фондом V-A-C мы сделали большой международный проект «общее целое», посвященный академической дискуссии и практическому исследованию вокруг проблем инклюзии в их историческом и актуальном понимании. Его итогом стала целостная концепция развития Музея как пространства постоянного диалога людей с самым разным социальным и культурным бэкграундом как формы расширения их общего понимания искусства и возможностей совместной творческой деятельности.
Есть ли за инклюзией будущее? Или инклюзия доступна только государствам, достигшим определенного уровня благосостояния?
Мария Щекочихина: Полагаю, что инклюзия возникает там, где каждый задумывается о Другом. Думаю, это возможно не только в странах, достигшим определенного уровня благосостояния. Это определенная идеология — принимать Другого.
Ярослав Алешин: Я думаю, этот вопрос поставлен не совсем корректно. Это все равно что спросить, есть ли будущее за общественным транспортом. Инвалидность, согласно современному определению данного понятия, это не «неполноценность», а состояние, которое возникает в результате отношения к человеку с особенностями со стороны других людей. То есть — состояние уязвимости и социальной незащищенности, которое, если вдуматься, описывает опыт большинства людей. Трудности, которые испытывает человек в инвалидном кресле, пытаясь попасть в музей, сопоставимы с трудностями жителя удалённого района города, которому, чтобы попасть туда же, нужно ехать на автобусе и метро полтора часа. И если бы этого транспорта не было, то в музей он бы не пошел вовсе. Иными словами, инклюзия — это не про уровень благосостояния (в развитых странах 50 лет назад он был таким же, как в развивающихся сегодня), а про способ устройства общества. Про то, какие задачи оно перед собой ставит. «Доступность» — это не только и не столько пресловутые пандусы, брайлевские таблички или рельефная навигация. Это и медицина, и образование, и жилищная политика — все то, что обеспечивает полноценное существование любого человека.
Что такое инклюзия учреждений культуры с вашей точки зрения?
Мария Щекочихина: Инклюзия в учреждениях культуры — это поворот от объекта, его охраны, от проектов и их «инклюзивности» к зрителю и посетителю. Это диалог с людьми, которые приходят в учреждения культуры. Несмотря на то, что в правовом и научно-педагогическом поле в нашей стране под инклюзией принято понимать практики по обеспечению доступности людям с инвалидностью, инклюзия не ограничивается только этим.
Ярослав Алешин: Я бы сказал, что это осознание того, что культурное учреждение — это прежде всего социальное учреждение, место, в котором и по средствам которого общество создает самое себя. И от того, в какой степени это учреждение взаимодействует со всеми группами аудиторий, зависит, в конечном счете, то, как эти аудитории будут взаимодействовать друг с другом вне его стен. В идеале, инклюзия в учреждениях культуры — это когда хранимое и производимое ими культурное достояние из самоцели превращается в средство, с помощью которого самые разные люди начинают общаться друг с другом и как-то сообща менять свою жизнь к лучшему.
Исходя из вашего опыта, примерно в какую сумму учреждению культуры обходится инклюзивные мероприятия? Насколько создание инклюзии доступно учреждениям культуры с маленьким бюджетом?
Мария Щекочихина: Инклюзия начинается с открытого диалога с посетителем. Дело совершенно не в бюджетах, а в умении выстраивать такую коммуникацию с посетителем, чтобы он вас понимал, ему нравилось, и он хотел бы вернуться. Например, вы небольшой региональный музей. Что вы можете сделать для вашего посетителя? Вы можете предложить детские программы с квестами, играми, чтобы дети узнавали новое в комфортном для себя режиме. Для этого нужен человек, который умеет взаимодействовать с детьми. Что касается программ для людей с инвалидностью, важно понимать, что они начинаются не с инструментов адаптации (перевод на русский жестовый язык, тифлокомментарий, тактильные модели, чек-листы, easy-to-read-тексты и т. д.), а с диалога с вашей аудиторией. Спросите у них, чего им не хватает в вашем учреждении, предложите несколько вариантов решения проблемы. Просто иметь тактильные модели в экспозиции — не значит быть инклюзивным.
Ярослав Алешин: Лично у меня был опыт организации инклюзивных проектов вообще без бюджета. В этом нет принципиальной сложности, если не мыслить свою деятельность только в рамках собственной площадки и ее узкокорпоративных интересов. В любом городе есть сообщества людей с инвалидностью, которые как-то, худо-бедно, наладили свою повседневную жизнь, есть организации, которые им помогают, есть городские структуры, которые, если им это предложить, в таких проектах будут заинтересованы. Главное, придумать все так, чтобы и интересы и ресурсы, которые есть у самых разных потенциальных партнеров, складывались в общий пазл. Тогда затраты каждого не выходят за рамки существующих бюджетов, исполняемых в штатном режиме. В Музее Вадима Сидура, о котором я уже упоминал выше, мы, например, делали проект «Все на выход», который представлял собой перформативную музейно-городскую экскурсию. Ее участники, среди которых всегда были и люди с инвалидностью, встречались в музее, знакомились с его экспозицией, а затем в сопровождении уличного духового оркестра двигались по почти 5 километровому маршруту до районного парка, знакомясь по пути с местными достопримечательностями. Там были организованы чаепитие и живой микрофон, чтобы обсудить самые разные вопросы, волнующие людей в связи с проблемами инклюзии и культурной политики в целом или возникшие по ходу мероприятия. В подготовке события задействовались музей, районный ресурсный центр для людей с инвалидностью, парк, общественные организации. Каждая из сторон могла дать для проекта что-то, что у нее уже было: экспозицию и помещение, переводчика на русский жестовый язык, волонтеров-сопровождающих, аппаратуру и прочее. В результате получался общий проект, который был интересен всем.
Можно ли считать мероприятие инклюзивным, если его проводят отдельно для широкой публики, и отдельно для людей с инвалидностью (пусть даже вместе с их родственниками)? Как быть с индивидуальными посетителями с особыми потребностями, которые пришли на мероприятие не в составе организованной группы?
Мария Щекочихина: Конечно, мероприятия, сегрегирующие аудиторию, не считаются инклюзивными, однако следует понимать, что разным людям требуются различные типы программ. Объединяя аудитории, мы рискуем затянуть мероприятие, потерять его информативность и т. д. Вполне нормально проводить экскурсии только на русском языке или только на английском языке, ровно также нормально проводить экскурсию только на русском жестовом языке. Если объединение аудиторий не ведёт к риску доставить неудобства всем участникам мероприятия или части, как, например, показ фильма с тифлокомментарием, то разделять аудиторию абсолютно бессмысленно. Если вы предлагаете экскурсию на русском жестовом языке, не стоит писать, что эта экскурсия специально для глухих посетителей. Укажите, что экскурсия пройдёт на русском жестовом языке и тогда на неё придут те, кто этим языком владеет.
Ярослав Алешин: Важно не столько то, отдельно ли проводится мероприятие и какая публика на него привлекается. Такие мероприятия, по-хорошему, не должны существовать в единичном формате, например, для отчетности. У институции должна быть комплексная политика в вопросе инклюзии, целями которой могут быть и расширение осведомленности широкой аудитории, и организация доступности для конкретных аудиторий, и создание постоянных связей с различными сообществами, и, наконец, совместное программирование проектов с участием их представителей. И если это так, то любой из названных примеров вполне представим как часть общей работы.
По каким критериям вы определяете, что культурное мероприятие действительно инклюзивно?
Мария Щекочихина: Как я уже отмечала, инклюзия — это не пандусы, тифлокомментарии и лишние строчки в бюджете. За инклюзивными практиками стоит определённая идеология принятия Другого. Нужно понимать, что абсолютная инклюзия — это утопия, но как и любая другая идеология она определяет ежедневные практики человека и позволяет обеспечивать равные возможности разным людям.
Ярослав Алешин: Мне кажется, есть один главный критерий — в какой степени и в каком качестве в такое мероприятие вовлечена его аудитория. Если функция людей состоит только в том, чтобы быть присутствовать и создавать фон, то я бы такое мероприятие, вне зависимости от состава участников и повестки, инклюзивным не назвал.
Приходилось ли вам отказывать в доступе к мероприятию или в учреждение? Например, вы понимали, что не хватило сил и ресурсов создать инклюзивную среду и не можете предоставить соответствующие условия посетителю. Как вы разрешали эту ситуацию?
Мария Щекочихина: Да, приходилось. Я работаю в Музее современного искусства и не всегда искусство доступно всем. Приведу пример: художник создаёт объект с 2-3 ступенями и к ним невозможно сделать пандус, поскольку это ведёт к искажению художественного смысла. В данной ситуации вы должны предупредить посетителя, передвигающегося на инвалидной коляске, что работа для него недоступна. Вы отказываете посетителю, но сообщаете художнику, что возникла такая ситуация и она может возникнуть в будущем. Это может породить новые дискуссии вокруг проблемы и заставить художника создавать новые формы, доступные всем. В случае, когда вы недоступны, ничего не остаётся, кроме как честно в этом признаться.
Ярослав Алешин: Нет, таких случаев в моей практике не было. Дело в том, что «инклюзивная среда» (и это, стоит еще раз подчеркнуть, официальное современное понимание феномена «инвалидности», зафиксированное, в частности, в «Конвенции о правах инвалидов ООН») это прежде всего среда определённых отношений. Никакое пространство никогда не может быть полностью приспособлено для человека. Собственно, вся история человечества и есть история постоянного приспособления физического пространства к его меняющимся потребностям и нуждам. Любой посетитель, который уже пришел в учреждение культуры, и который живет в реальном мире, прекрасно понимает, что не все и не всегда будет приспособлено к его специальным потребностям. Поэтому важна, прежде всего, готовность институции предложить и оказать такому человеку посильную помощь, если он в ней нуждается.
Достаточно ли привлечь человека с инвалидностью к консультированию по организации культурного мероприятия для посетителей с той же инвалидностью или все же это должен быть специалист с соответствующим дипломом или конкретным опытом?
Мария Щекочихина: Люди с инвалидностью — это не однородная масса людей с общими интересами, проблемами, вкусами и желаниями. Все люди разные и просто привлечь одного человека, конечно, недостаточно. Старайтесь находиться в постоянном диалоге со своей аудиторией. Однако есть уже существующие знания о том, какие инструменты адаптации следует использовать, чтобы создать доступную среду. Их можно смело использовать.
Ярослав Алешин: Конечно, для прояснения неких специальных моментов, касающихся посетителей с той или иной инвалидностью, нужен именно специалист. То есть человек обладающий не просто знанием или опытом, связанным с этими особенностями, но и умеющий эти знания и опыт обобщить и донести до других людей. Здесь важно понимать, что опыт инвалидности регулируется не официально принятой категоризацией (например, инвалид «по зрению») и что внутри этих официальных категорий присутствует: как правило, весьма широкий спектр реальных особенностей, которые на практике выглядят и работают по-разному.
С начала пандемии многие учреждения культуры вышли в онлайн. На что конкретно нужно обращать внимание для того, чтобы диджитал проекты были доступны для людей с инвалидностью? Есть ли уже успешные примеры таких проектов у учреждений культуры?
Мария Щекочихина: Первое, на что нужно обратить внимание — это сайт учреждения. Сайт должен быть понятен, прост, удобен, он должен отвечать стандартам доступности. Появилось много трансляций лекций и дискуссий. Хорошо переводить их на русский жестовый язык. Если вы имеете возможность обсудить с лектором мероприятие, попросите его описать себя в начале выступления и описывать слайды презентации. Под описанием не имеется в виду тифлокомментарий, так что каждый способен выполнить вашу просьбу.
Ярослав Алешин: Безусловно, переход в онлайн для многих учреждений культуры и многих людей с инвалидностью стал шагом навстречу друг другу. Постольку, поскольку это вообще более доступный в материально бытовом смысле формат коммуникации. Но вместе с тем, у него есть и ряд особенностей, которые, уверен, отмечают для себя все, кто общается удаленно. Прежде всего такое общение оставляет меньше места для эмпатии и невербальных коммуникаций. Часто люди просто не понимают, что происходит на другой, если так можно выразиться, стороне экрана. Для многих людей с инвалидностью это может быть проблемой. Как по части психоэмоциональных особенностей каждого человека, так и в силу чисто технических моментов, связанных со скоростью перевода и трансляции информации.
На что стоит обращать внимание журналистам, которые освещают культурные инклюзивные мероприятия? Может быть, что-то упускают, а может, что-то вызывает раздражение?
Мария Щекочихина: Думаю, основная задача — не делать акцент на «инклюзивности» мероприятия. Настоящая инклюзия там, где о ней не говорят, а она просто есть.
Ярослав Алешин: Думаю, изданиям, пишущим об инклюзии в сфере культуры, стоит, прежде всего, отказаться от медицинской трактовки инвалидности как нехватки чего-то и понимания инклюзивной деятельности как ее, этой нехватки, восполнения. Инклюзия в действительном смысле предполагает субъект-субъектный подход, в рамках которого все стороны коммуникации понимаются равноправными, а сам ее процесс видится, скорее, как взаимная настройка связи, а не направленная трансляция. Было бы здорово, например, давать слово не только специалистам по инклюзии, но и другим участникам подобных программ.
Редакция портала «Культура Петербурга» благодарит экспертов и организаторов Санкт-Петербургского международного культурного форума за сотрудничество в работе над материалом.
Материал подготовлен редакцией портала «Культура Петербурга». Цитирование или копирование возможно только со ссылкой на первоисточник: spbcult.ru

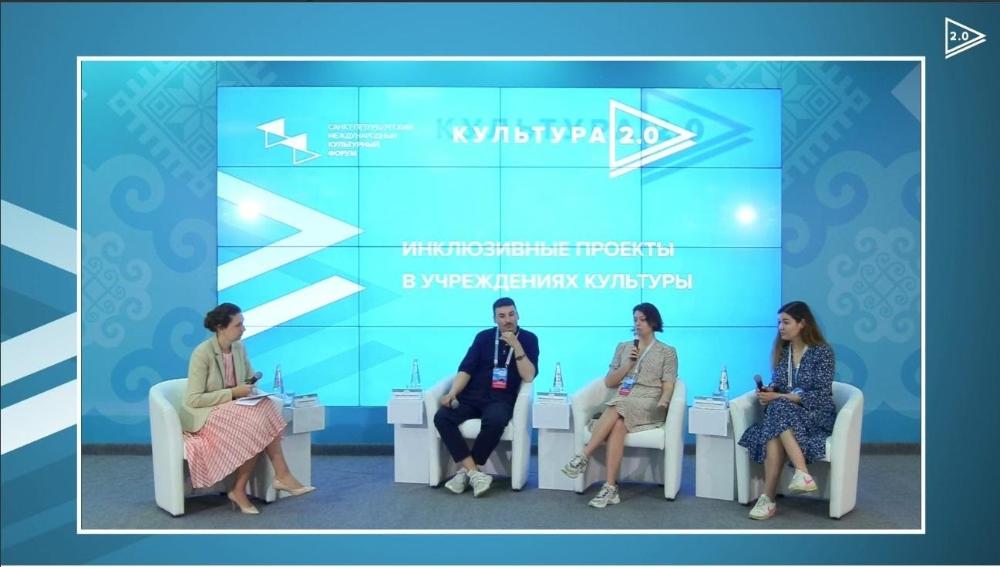

Ваш комментарий
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии
Авторизоваться